|
|
Garshin.Ru |
|
|
–Ы–µ–Ї—Б–Є–Ї–Њ–љ—Л |
|
|
–Я–Є—И–Є—В–µ |
| –Ю –°–ї–Њ–≤–Њ—А–Њ–і–µ (–Ј–∞–і–∞—З–Є) | |
|
|
|||||||||
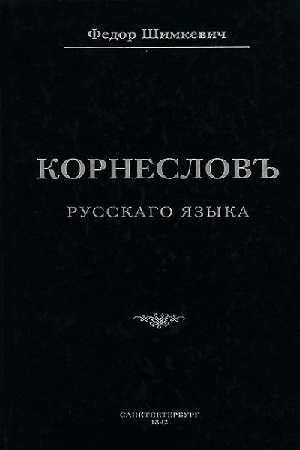
–§–µ–і–Њ—А –°–њ–Є—А–Є–і–Њ–љ–Њ–≤–Є—З –®–Є–Љ–Ї–µ–≤–Є—З (1802 - 1843) –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ "–Ъ–Њ—А–љ–µ—Б–ї–Њ–≤–µ" –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ—П–ї –њ–Њ–њ—Л—В–Ї—Г —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞—В—М—Б—П –≤ –Є—Б—В–Њ–Ї–∞—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞, –Њ—В–і–µ–ї–Є—В—М –Њ—В —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Б–ї–Њ–≤ —З—Г–ґ–µ–Ј–µ–Љ–љ—Г—О –њ—А–Є–Љ–µ—Б—М –Є –Њ—В—Л—Б–Ї–∞—В—М –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Г—О –Њ—Б–љ–Њ–≤—Г, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–≤, —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –≤ –љ–µ–Љ –Є—Б–Ї–Њ–љ–љ–Њ —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ—А–љ–µ–є. –І—В–Њ–±—Л –і–Њ—Б—В–Є—З—М —Н—В–Њ–є —Ж–µ–ї–Є, –®–Є–Љ–Ї–µ–≤–Є—З –њ—А–Њ–і–µ–ї–∞–ї –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Г—О —А–∞–±–Њ—В—Г, —Б—А–∞–≤–љ–Є–≤ –Ї–Њ—А–љ–Є —Б–ї–Њ–≤, —Б—З–Є—В–∞–≤—И–Є—Е—Б—П —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ–Є, —Б 24-–Љ—П –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л–Љ–Є —П–Ј—Л–Ї–∞–Љ–Є. –Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —Н—В–Њ–є —А–∞–±–Њ—В—Л –≤ "–Ъ–Њ—А–љ–µ—Б–ї–Њ–≤–µ" –±—Л–ї–Њ –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ 1378 –Ї–Њ—А–љ–µ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Б–ї–Њ–≤, –Є–Љ–µ—О—Й–Є—Е —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ. –®–Є–Љ–Ї–µ–≤–Є—З —Б—З–Є—В–∞–ї, —З—В–Њ –љ–∞—А–Њ–і, –љ–∞—З–Є–љ–∞—П —Б–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞—В—М –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, —Б—В–∞—А–∞–µ—В—Б—П –Њ—З–Є—Б—В–Є—В—М —П–Ј—Л–Ї –Њ—В —З—Г–ґ–µ–Ј–µ–Љ–љ–Њ–є –њ—А–Є–Љ–µ—Б–Є, –Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В –≤ —А–Њ–і–љ–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ —Б–ї–Њ–≤–∞ –і–ї—П –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –љ–Њ–≤—Л—Е –њ–Њ–љ—П—В–Є–є. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –∞–≤—В–Њ—А "–Ъ–Њ—А–љ–µ—Б–ї–Њ–≤–∞" –љ–∞–і–µ—П–ї—Б—П, —З—В–Њ –њ—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є–ї–Њ—Б—М —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є —П–Ј—Л–Ї –Њ—З–Є—Б—В–Є—В—Б—П –Њ—В –љ–∞–Ї–Њ–њ–Є–≤—И–µ–є—Б—П –≤ –љ–µ–Љ –њ—А–Є–Љ–µ—Б–Є, –Є –µ–≥–Њ —В—А—Г–і –±—Г–і–µ—В —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М —В–∞–Ї–Њ–Љ—Г –Њ—З–Є—Й–µ–љ–Є—О. –Ъ–Њ—А–љ–µ—Б–ї–Њ–≤ –Є–Ј–і–∞–≤–∞–ї—Б—П –≤ 1842 –≥–Њ–і—Г –Є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –±–Є–±–ї–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —А–∞—А–Є—В–µ—В–Њ–Љ. –≠—В—Г —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О –Ї–љ–Є–≥—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В –≤ —Б–µ–±–µ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ —В–∞–Є–љ—Б—В–≤–Њ –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ "–≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Љ–Њ–≥—Г—З–µ–≥–Њ" —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞ –њ–µ—А–µ–Є–Ј–і–∞–ї –≤ 2007 –≥–Њ–і—Г –Т–Є–Ї—В–Њ—А –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–≤–Є—З –Ґ–Њ–ї–Ї–∞—З–µ–≤. –Я—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ–Љ—Л–є —В—А—Г–і –Є–Ј –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–Є —Б–ї–Њ–≤–∞—А–µ–є "–°–ї–Њ–≤–Њ—А–Њ–і–∞": –§–µ–і–Њ—А –®–Є–Љ–Ї–µ–≤–Є—З. –Ъ–Њ—А–љ–µ—Б–ї–Њ–≤—К —А—Г—Б—Б–Ї–∞–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞, —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–љ–∞–≥–Њ —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є –≥–ї–∞–≤–љ–µ–є—И–Є–Љ–Є —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –љ–∞—А–µ—З–Є—П–Љ–Є –Є —Б—К –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М—О —З–µ—В—Л—А—М–Љ—П –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л–Љ–Є —П–Ј—Л–Ї–∞–Љ–Є. - –°–∞–љ–Ї—В–њ–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—К, 1842. –Ъ–Њ—А–љ–µ—Б–ї–Њ–≤—К –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ –њ—А–∞–≤—Г –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М –њ–µ—А–≤—Л–Љ —Н—В–Є–Љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б–ї–Њ–≤–∞—А—С–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞. –Т —Б–ї–Њ–≤–∞—А–µ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–Њ 1378 –Ї–Њ—А–љ–µ–є –Њ–±–Є—Е–Њ–і–љ—Л—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Б–ї–Њ–≤. –Т—Б–µ–≥–Њ –≤ —Б–ї–Њ–≤–∞—А–µ 314 —Б—В–∞—В–µ–є. [–Я–Њ—З–µ–Љ—Г 314, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Є—Б–Ї–Њ–љ–љ–Њ-—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ—А–љ–µ–є –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ - 1378 ?] –≠—В—Г –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Г—О –Ї–љ–Є–≥—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В –≤ —Б–µ–±–µ —В–∞–є–љ—Г –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П —Б–ї–Њ–≤–∞—А–љ–Њ–≥–Њ —П–і—А–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞ –њ–µ—А–µ–Є–Ј–і–∞–ї –≤ 2007 –≥–Њ–і—Г –Т–Є–Ї—В–Њ—А –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–≤–Є—З –Ґ–Њ–ї–Ї–∞—З–µ–≤ - —Г—З–µ–љ—Л–є-–љ–Њ–≤–∞—В–Њ—А, –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В, –і–∞–≤–љ–Њ –Є —Г—Б–µ—А–і–љ–Њ —А–∞–±–Њ—В–∞—О—Й–Є–є –љ–∞–і –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ—Л—Е —Б–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Б–ї–Њ–≤. –°–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–∞—П –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є—П: –§—С–і–Њ—А –®–Є–Љ–Ї–µ–≤–Є—З. –Ъ–Њ—А–љ–µ—Б–ї–Њ–≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞. - –°–Я–±.: –Ш–Ј–і-–≤–Њ "–Ю—Б–Є–њ–Њ–≤", 2007. - 340 —Б. –°–ї–Њ–≤–∞—А—М –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Ј–∞–Ї–∞–Ј–∞—В—М –≤ –Ю–Ј–Њ–љ–µ. |
–§–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞—А—М —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –Є–Ј 2-—Е —З–∞—Б—В–µ–є (–Њ–±–µ –≤ –Њ–і–љ–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–µ) - –≤—В–Њ—А–∞—П —З–∞—Б—В—М –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П —Б –±—Г–Ї–≤—Л "–Ю".
–†–∞–Ј–і–µ–ї—Л —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж—Л –Њ –Ъ–Њ—А–љ–µ—Б–ї–Њ–≤–µ –§—С–і–Њ—А–∞ –°–њ–Є—А–Є–і–Њ–љ–Њ–≤–Є—З–∞ –®–Є–Љ–Ї–µ–≤–Є—З–∞:
–°–Љ–Њ—В—А–Є—В–µ —В–∞–Ї–ґ–µ –±–Є–±–ї–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—О –њ–Њ —Н—В–Є–Љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б–ї–Њ–≤–∞—А—П–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞.
–Т—Л–і–µ–ї–Є–≤ –Є—Б–Ї–Њ–љ–љ—Л–µ –Ї–Њ—А–љ–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞, –®–Є–Љ–Ї–µ–≤–Є—З, –њ–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞–Љ, –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–Є–ї –Ј–∞ –љ–Є–Љ–Є –Ї–Њ—А–љ–µ–≤—Л–µ —Б–ї–Њ–≤–∞:
–Т—Б–µ–≥–Њ - 7+88+79+78+64+6+34+29+21+145+73+85+29+40+107+55+164+85+26+1+46+8+46+24+18+1+2+20=1381 –Ї–Њ—А–љ–µ–≤–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ [–њ–Њ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—О - 1378 –Ї–Њ—А–љ–µ–є –≤ 314 —Б–ї–Њ–≤–∞—А–љ—Л—Е —Б—В–∞—В—М—П—Е - –Ї–∞–Ї —В–∞–Ї–Њ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М?].
[–§—С–і–Њ—А –°–њ–Є—А–Є–і–Њ–љ–Њ–≤–Є—З, –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, –≤–Ї–ї—О—З–∞–ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–ї–Њ–≤–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Ї–Њ—А–љ–Є.
–Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≤ –µ–≥–Њ –Ъ–Њ—А–љ–µ—Б–ї–Њ–≤–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В—Б—П –Љ–µ–ґ–і–Њ–Љ–µ—В–Є—П (–Њ—В –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤—Л–≤–∞—В—М –≥–ї–∞–≥–Њ–ї—Л –Є –Њ—В–≥–ї–∞–≥–Њ–ї—М–љ—Л–µ —Б–ї–Њ–≤–∞,
–љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –∞—Е! => –∞—Е–љ—Г—В—М, –∞—Е–љ—Г–≤—И–Є–є, –∞—Е–∞—П).]
–§–Є–ї–Њ–ї–Њ–≥ –§—С–і–Њ—А –°–њ–Є—А–Є–і–Њ–љ–Њ–≤–Є—З –®–Є–Љ–Ї–µ–≤–Є—З (1802вАФ1843) вАФ –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї –Ї–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є. –°—В—А–∞—Б—В–љ–Њ —Г–≤–ї–µ–Ї–∞–ї—Б—П —Д–Є–ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є—П–Љ–Є, –њ–ї–Њ–і–Њ–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —П–≤–Є–ї—Б—П –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є ¬Ђ–Ъ–Њ—А–љ–µ—Б–ї–Њ–≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞вА¶¬ї, –љ–∞–њ–µ—З–∞—В–∞–љ–љ—Л–є –≤ 1842 –≥. –Є –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–љ—Л–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–µ–є –љ–∞—Г–Ї –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–љ–Њ–є –Ф–µ–Љ–Є–і–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –њ—А–µ–Љ–Є–µ–є.
–¶–µ–ї—М –∞–≤—В–Њ—А–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ–±—Л ¬Ђ—А–∞–Ј–Њ–±—А–∞–≤ —В–Ї–∞–љ—М —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞, —В–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –њ–Њ –љ–Є—В—П–Љ, –Є –Њ—В–і–µ–ї–Є–≤ –Є–Ј –љ–µ—С —З—Г–ґ–µ–Ј–µ–Љ–љ—Г—О –њ—А–Є–Љ–µ—Б—М, –Њ—В—Л—Б–Ї–∞—В—М –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Г—О –Њ—Б–љ–Њ–≤—Г —Б–µ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞, –Є —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –≤ –љ—С–Љ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–њ–∞—Б–∞¬ї.
¬Ђ–Ъ–Њ—А–љ–µ—Б–ї–Њ–≤¬ї –®–Є–Љ–Ї–µ–≤–Є—З–∞ –±—Л–ї —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –≤ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–≤–µ—Б [?] –≠—В–Є–Љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –ї–µ–Ї—Б–Є–Ї–Њ–љ—Г –†–µ–є—Д–∞ –§.–Ш. –Т –љ–µ–Љ –∞–≤—В–Њ—А –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ—П–ї –њ–Њ–њ—Л—В–Ї—Г —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞—В—М—Б—П –≤ –Є—Б—В–Њ–Ї–∞—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞, –Њ—В–і–µ–ї–Є—В—М –Њ—В —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Б–ї–Њ–≤ —З—Г–ґ–µ–Ј–µ–Љ–љ—Г—О –њ—А–Є–Љ–µ—Б—М –Є –Њ—В—Л—Б–Ї–∞—В—М –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Г—О –Њ—Б–љ–Њ–≤—Г, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–≤ —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –≤ –љ–µ–Љ –Є—Б–Ї–Њ–љ–љ–Њ —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ—А–љ–µ–є. –І—В–Њ–±—Л –і–Њ—Б—В–Є—З—М —Н—В–Њ–є —Ж–µ–ї–Є, –®–Є–Љ–Ї–µ–≤–Є—З –њ—А–Њ–і–µ–ї–∞–ї –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Г—О —А–∞–±–Њ—В—Г, —Б—А–∞–≤–љ–Є–≤ –Ї–Њ—А–љ–Є —Б–ї–Њ–≤, —Б—З–Є—В–∞–≤—И–Є—Е—Б—П —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ–Є, —Б 24 –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л–Љ–Є —П–Ј—Л–Ї–∞–Љ–Є. –Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —Н—В–Њ–є —А–∞–±–Њ—В—Л –≤ ¬Ђ–Ъ–Њ—А–љ–µ—Б–ї–Њ–≤–µ¬ї –±—Л–ї–Њ –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ 1378 –Ї–Њ—А–љ–µ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Б–ї–Њ–≤, –Є–Љ–µ—О—Й–Є—Е —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ.
–Т—Б–µ —Б–ї–Њ–≤–∞, —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї—П–µ–Љ—Л–µ –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ, –∞–≤—В–Њ—А –і–µ–ї–Є–ї –љ–∞
–°–≤–Њ–Є–Љ —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –њ—А–Є—И–ї—Л–µ —Б–ї–Њ–≤–∞ –Њ–±—П–Ј–∞–љ—Л, –њ–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –∞–≤—В–Њ—А–∞, –њ—А–Є—Е–Њ—В–Є –ї—О–і–µ–є, –љ–µ –Њ–±—А–∞—Й–∞—О—Й–Є—Е –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –љ–∞ –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —П–Ј—Л–Ї. –®–Є–Љ–Ї–µ–≤–Є—З –љ–∞–і–µ—П–ї—Б—П, —З—В–Њ –њ—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є–ї–Њ—Б—М —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є —П–Ј—Л–Ї –Њ—З–Є—Б—В–Є—В—Б—П –Њ—В –љ–∞–Ї–Њ–њ–Є–≤—И–µ–є—Б—П –≤ –љ–µ–Љ –њ—А–Є–Љ–µ—Б–Є, –Є –µ–≥–Њ —В—А—Г–і –±—Г–і–µ—В —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М —В–∞–Ї–Њ–Љ—Г –Њ—З–Є—Й–µ–љ–Є—О.
–Ъ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –≤ —Б–ї–Њ–≤–∞—А–љ—Л—Е —Б—В–∞—В—М—П—Е –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—В –њ—А–∞—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–µ –Є –њ—А–∞–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–µ —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є, —В.–Ї., —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —П–Ј—Л–Ї–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –Є —Б–ї–∞–≤–Є—Б—В–Є–Ї–∞ –Ї —В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –µ—Й—С –љ–µ –і–Њ—Б—В–Є–≥–ї–Є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ —Г—А–Њ–≤–љ—П.
–Ъ–Њ—А–љ–µ—Б–ї–Њ–≤—К –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ –њ—А–∞–≤—Г –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М –њ–µ—А–≤—Л–Љ ["–љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ"] —Н—В–Є–Љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б–ї–Њ–≤–∞—А—С–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞ [–µ—Б–ї–Є –љ–µ —Б—З–Є—В–∞—В—М –†—Г—Б—Б–Ї–Њ-–§—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є–є –°–ї–Њ–≤–∞—А—М –†–µ–є—Д–∞, –≥–і–µ –њ–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ –Љ–Њ–≥–ї–Є –і–∞–≤–∞—В—М—Б—П —Н—В–Є–Љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–њ—А–∞–≤–Ї–Є, –∞ —В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Б–ї–Њ–≤ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –њ–Њ-—Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є]. –≠—В–∞ —Д—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ–∞—П —А–∞–±–Њ—В–∞ –±—Л–ї–∞ —Г–і–Њ—Б—В–Њ–µ–љ–∞ –Ф–µ–Љ–Є–і–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –њ—А–µ–Љ–Є–Є –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є –љ–∞—Г–Ї –Є —Б—Л–≥—А–∞–ї–∞ –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И—Г—О —А–Њ–ї—М –≤ —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞.
–Ъ–Њ—А–љ–µ—Б–ї–Њ–≤ –§.–®–Є–Љ–Ї–µ–≤–Є—З–∞ –њ–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –Ј–љ–∞—З–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –і–ї—П –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞, –µ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞, —Б—В—А–Њ—П –Є —Б–Ї–ї–∞–і–∞ —Б—В–Њ–Є—В –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ —А—П–і—Г —Б–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞—А—С–Љ –Т.–Ш.–Ф–∞–ї—П. –Ф–≤–∞ —Н—В–Є —Б–ї–Њ–≤–∞—А—П –≤–Ј–∞–Є–Љ–љ–Њ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ—П—О—В—Б—П –Њ–і–Є–љ –і—А—Г–≥–Є–Љ. –°–ї–Њ–≤–∞—А—М –Т.–Ш.–Ф–∞–ї—П - —Н—В–Њ –Ї–ї–∞–і–Њ–≤–∞—П —Б–ї–Њ–≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞, –µ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞. –Ъ–Њ—А–љ–µ—Б–ї–Њ–≤ –§.–®–Є–Љ–Ї–µ–≤–Є—З–∞ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –њ—А–Њ—Б–ї–µ–і–Є—В—М –Є—Б—В–Њ–Ї–Є –Є —Б—В—А–Њ–є —П–Ј—Л–Ї–∞ –Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Н—В–Є–Љ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М —Г—В—А–∞—З–µ–љ–љ—Г—О –Є—Б—В–Њ—А–Є—О —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞.
–°—В—А—Г–Ї—В—Г—А–љ–Њ ¬Ђ–Ъ–Њ—А–љ–µ—Б–ї–Њ–≤¬ї —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –Є–Ј –і–≤—Г—Е —З–∞—Б—В–µ–є.
–Т —Б–ї–Њ–≤–∞—А–µ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–Њ 1378 –Ї–Њ—А–љ–µ–є –Њ–±–Є—Е–Њ–і–љ—Л—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Б–ї–Њ–≤.
–Ъ–Њ—А–љ–µ—Б–ї–Њ–≤ –§—С–і–Њ—А–∞ –®–Є–Љ–Ї–µ–≤–Є—З–∞ –±—Л–ї –≤—В–Њ—А—Л–Љ –Њ–њ—Л—В–Њ–Љ —Н—В–Є–Љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –Ы–µ–Ї—Б–Є–Ї–Њ–љ–∞ –†–µ–є—Д–∞. –Я–Њ–љ—П—В—М –љ–Њ–≤–Є–Ј–љ—Г –Є —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Г —Б–ї–Њ–≤–∞—А—П –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Є–Ј –њ—А–µ–і–Є—Б–ї–Њ–≤–Є—П –∞–≤—В–Њ—А–∞ –≤ –µ–≥–Њ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є–Є —Б "–†–µ–є—Д–Њ–≤—Л–Љ –Ы–µ–Ї—Б–Є–Ї–Њ–љ–Њ–Љ":
–Ш–Ј–і–∞–≤–∞—П –Ъ–Њ—А–љ–µ—Б–ї–Њ–≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –≠—В–Є–Љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ы–µ–Ї—Б–Є–Ї–Њ–љ–∞, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –У.–†–µ–є—Д–Њ–Љ, —П —Б—З–Є—В–∞—О –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–Љ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З–µ–Љ —А–∞–Ј–љ–Є—В—Б—П –Љ–Њ–є –Ъ–Њ—А–љ–µ—Б–ї–Њ–≤ –Њ—В –†–µ–є—Д–Њ–≤–∞ –Ы–µ–Ї—Б–Є–Ї–Њ–љ–∞. –І—В–Њ–±—Л –≤–Є–і–µ—В—М —Н—В–Њ —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є–µ, –љ–∞–і–Њ–±–љ–Њ –Њ–±—А–∞—В–Є—В—М –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ:
I. –†–µ–є—Д –Є–Љ–µ–ї —Ж–µ–ї—М—О, —Б –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –і–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М (—Г—З–∞—Й–Є–Љ—Б—П?) —Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ –Ї —Г–і–Њ–±–љ–µ–є—И–µ–Љ—Г —Г–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—О –≤ –њ–∞–Љ—П—В–Є —Б–ї–Њ–≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞, –∞, —Б –і—А—Г–≥–Њ–є, –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї (—Б–Њ—З–Є–љ–Є—В–µ–ї—П–Љ?) –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Л –і–ї—П –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –љ–Њ–≤—Л—Е —Б–ї–Њ–≤. –Т –Ъ–Њ—А–љ–µ—Б–ї–Њ–≤–µ —П –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ—П–ї: —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞–≤ —В–Ї–∞–љ—М —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞, —В–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –њ–Њ –љ–Є—В—П–Љ, –Є –Њ—В–і–µ–ї–Є–≤ –Є–Ј –љ–µ—С —З—Г–ґ–µ–Ј–µ–Љ–љ—Г—О –њ—А–Є–Љ–µ—Б—М, –Њ—В—Л—Б–Ї–∞—В—М –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Г—О –Њ—Б–љ–Њ–≤—Г —Б–µ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞, –Є —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –≤ –љ—С–Љ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–њ–∞—Б–∞.
II. –Т –†–µ–є—Д–Њ–≤–Њ–Љ –Ы–µ–Ї—Б–Є–Ї–Њ–љ–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ—Л –≤—Б–µ —Б–ї–Њ–≤–∞, –Ї–∞–Ї–Є–µ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—М –Љ–Њ–≥ —Б–Њ–±—А–∞—В—М, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ:
–Т –Ъ–Њ—А–љ–µ—Б–ї–Њ–≤–µ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—О—В—Б—П –Ї–Њ—А–µ–љ–љ—Л–µ —Б–ї–Њ–≤–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ, —Б–∞–Љ–Є –ї–Є –њ–Њ —Б–µ–±–µ, –Є–ї–Є –њ—А–Є –њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ —Б–≤–Њ–Є—Е –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–љ—Л—Е, —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М –≤ —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є–Є –і–Њ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. –≠—В–Њ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є–µ —Б—В–µ—Б–љ—П–µ—В—Б—П –і–Њ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞ –Є–љ–Њ—П–Ј—Л—З–љ—Л–µ –Є–ї–Є –њ—А–Є–љ—П—В—Л–µ –Є–Ј –і—А—Г–≥–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤, –љ–µ –Є–Љ–µ—О—В –Љ–µ—Б—В–∞ –≤ –Ъ–Њ—А–љ–µ—Б–ї–Њ–≤–µ. –Ч–∞—В–Њ –њ—А–Є –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —Б–ї–Њ–≤–∞—Е –њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ—Л –њ—А–Є–Љ–µ—З–∞–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ, –њ–Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—О, –і–∞—О—В –Ъ–Њ—А–љ–µ—Б–ї–Њ–≤—Г –≤–Є–і –Ї—А–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ.
III. –Т –†–µ–є—Д–Њ–≤–Њ–Љ –Ы–µ–Ї—Б–Є–Ї–Њ–љ–µ "–њ—А–Є —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є—Е —А–µ—З–µ–љ–Є—П—Е –њ—А–Є–≤–Њ–і—П—В—Б—П —Б–ї–Њ–≤–∞ –Ї–Њ—А–µ–љ–љ—Л–µ –Є –Њ–і–љ–Њ–Ј–љ–∞—З–∞—Й–Є–µ, —Б–∞–љ—Б–Ї—А–Є—В—Б–Ї–Є–µ, –њ–µ—А—Б–Є–і—Б–Ї–Є–µ, –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є–µ, –ї–∞—В–Є–љ—Б–Ї–Є–µ, –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–µ, –∞—А–∞–±—Б–Ї–Є–µ –Є –µ–≤—А–µ–є—Б–Ї–Є–µ"). –°–≤–µ—А—Е —В–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞—О—В—Б—П —Б—Б—Л–ї–Ї–Є –љ–∞ —П–Ј—Л–Ї–Є –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є–є, –∞—А–Љ—П–љ—Б–Ї–Є–є, –Є—Б–ї–∞–љ–і—Б–Ї–Є–є, –≥–Њ—В—Д—Б–Ї–Є–є, —Д–Є–љ—Б–Ї–Є–є, –≤–µ–љ–≥–µ—А—Б–Ї–Є–є –Є –љ–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –і—А—Г–≥–Є–µ; –∞ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –љ–∞ —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–µ –љ–∞—А–µ—З–Є—П –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ—В—Б—П —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ —А–µ–і–Ї–Њ, –Є –Є–Ј –љ–Є—Е –њ—А–Є–≤–Њ–і—П—В—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –±–Њ–≥–µ–Љ—Б–Ї–Њ–µ [—З–µ—И—Б–Ї–Њ–µ –Є–ї–Є —Б–ї–Њ–≤–∞—Ж–Ї–Њ–µ?], –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–µ, —Б–µ—А–±—Б–Ї–Њ–µ, –Ї—А–Њ–∞—В—Б–Ї–Њ–µ [—Е–Њ—А–≤–∞—В—Б–Ї–Њ–µ], –ї–Є—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ-—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–µ (–±–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–µ) –Є —Г–Ї—А–∞–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ (–Љ–∞–ї–Њ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–µ) [–љ–µ—В –±–Њ–ї–≥–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Љ–∞–Ї–µ–і–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —Б–ї–Њ–≤–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ].
–Т –Ъ–Њ—А–љ–µ—Б–ї–Њ–≤–µ –≤—Л—И–µ –Є—Б—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ —П–Ј—Л–Ї–Є –љ–µ —Г–њ—Г—Й–µ–љ—Л –Є–Ј –≤–Є–і—Г, –Ї—А–Њ–Љ–µ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –љ–µ –±—Л–ї–Њ –љ–Є –Љ–∞–ї–µ–є—И–µ–є –љ—Г–ґ–і—Л. –Я–µ—А–µ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–≤ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –У.–†–µ–є—Д–∞, –Њ—В–љ–Њ—Б—П—Й–Є–µ—Б—П –Ї —П–Ј—Л–Ї–∞–Љ –њ–µ—А—Б–Є–і—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Є –∞—А–∞–±—Б–Ї–Њ–Љ—Г, —П —Г–і–µ—А–ґ–∞–ї –Є–Ј –љ–Є—Е —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–µ; –∞ –њ–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞–Љ: —Б–∞–љ—Б–Ї—А–Є—В—Б–Ї–Њ–Љ—Г, –∞—А–Љ—П–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г, –≥–Њ—В—Д—Б–Ї–Њ–Љ—Г, –Є—Б–ї–∞–љ–і—Б–Ї–Њ–Љ—Г, —Д–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Є –≤–µ–љ–≥–µ—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Б–і–µ–ї–∞–љ—Л –≤ –Ъ–Њ—А–љ–µ—Б–ї–Њ–≤–µ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –њ—А–Є–±–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П. [–Т–µ–љ–≥–µ—А—Б–Ї–Є–є –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞—В—М –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ - –Њ–љ–Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤ –Ј–∞–Є–Љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –Є–Ј –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –і—А–µ–≤–љ–µ—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞, –љ–Њ –Ј–∞—З–µ–Љ —Д–Є–љ—Б–Ї–Є–є? - –Ш.–У.] –Э–Њ –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –Љ–Њ–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Ј–∞–љ—П—В–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –љ–∞—А–µ—З–Є—П–Љ–Є. –Т –і–Њ–±–∞–≤–Њ–Ї –Ї —В–µ–Љ –Є–Ј –љ–Є—Е, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і–µ–ї–∞—О—В—Б—П —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –≤ –†–µ–є—Д–Њ–≤–Њ–Љ –Ы–µ–Ї—Б–Є–Ї–Њ–љ–µ, —П —Б–ї–Є—З–∞–ї —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ —Б–ї–Њ–≤–∞ —Б–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є –љ–∞—А–µ—З–Є–є: –±–Њ–ї–≥–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ (–љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ), –і–≤—Г—Е –ї—Г–ґ–Є—Ж–Ї–Є—Е (–≤–µ—А—Е–љ–µ–≥–Њ –Є –љ–Є–ґ–љ–µ–≥–Њ), —Б–ї–Њ–≤–∞—Ж–Ї–Њ–≥–Њ, –Љ–Њ—А–∞–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ [—З–µ—И—Б–Ї–Њ–≥–Њ?], –Ї—А–∞–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ [?], –≤–Є–љ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ [?], —Б–ї–∞–≤–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ [—Б–ї–Њ–≤–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ?], –±–Њ—Б–љ–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ [—З–µ–Љ –Њ–љ –Њ—В–ї–Є—З–∞–µ—В—Б—П –Њ—В —Б–µ—А–±—Б–Ї–Њ-—Е–Њ—А–≤–∞—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ?], —А–∞–≥—Г–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ [—Е–Њ—А–≤–∞—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–µ—З–Є—П –Ф—Г–±—А–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞?], –і–∞–ї–Љ–∞—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ [—Е–Њ—А–≤–∞—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–µ—З–Є—П –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞ –Ъ—А–Ї?] –Є –ї—О–љ–µ–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Є–ї–Є –њ–Њ–ї–∞–±—Б–Ї–Њ–≥–Њ [–≤—Л–Љ–µ—А—И–µ–≥–Њ, –љ–Њ –Њ—З–µ–љ—М –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ –і–ї—П —Б–ї–∞–≤–Є—Б—В–Є–Ї–Є]. –°–≤–µ—А—Е —В–Њ–≥–Њ —П –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї—Б—П –Ї —П–Ј—Л–Ї–∞–Љ –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г, –і—А–µ–≤–љ–µ–Љ—Г –њ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ—Г, –ї–Є—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г, –ї–∞—В—Л—И—Б–Ї–Њ–Љ—Г, —Н—Б—В–Њ–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Є –Љ–Њ–ї–і–∞–≤–Њ-–≤–∞–ї–∞—Е—Б–Ї–Њ–Љ—Г. –Э–∞–і–Њ–±–љ–Њ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Ї —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П–Љ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–µ –љ–∞—А–µ—З–Є—П, –љ–Њ –Є –љ–∞ —П–Ј—Л–Ї–Є –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л–µ, —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –†–µ–є—Д–Њ–≤—Л–Љ –Ы–µ–Ї—Б–Є–Ї–Њ–љ–Њ–Љ –Є –Ъ–Њ—А–љ–µ—Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ –Њ—З–µ–љ—М –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ: –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ —А–µ–і–Ї–Њ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ—В—Б—П –≤–Љ–µ—Б—В–µ –±–Њ–ї–µ–µ 5 —Н—В–Є—Е —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–є, –∞ –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–Љ —З–Є—Б–ї–Њ –Є—Е –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –≤–Њ—Б—Е–Њ–і–Є—В –і–Њ 15 –њ–Њ —В–µ–Љ –Є –і—А—Г–≥–Є–Љ (–љ–∞—А–µ—З–Є—П–Љ –Є —П–Ј—Л–Ї–∞–Љ) –њ–Њ—А–Њ–Ј–љ—М.
IV. –Ш–Ј –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й–µ–≥–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤–Є–і–µ—В—М, —З—В–Њ –≤ —З–Є—Б–ї–µ –њ–Њ—Б–Њ–±–Є–є, —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Љ–љ–Њ—О –њ—А–Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Ъ–Њ—А–љ–µ—Б–ї–Њ–≤–∞, –±—Л–ї–Є –Є —В–∞–Ї–Є–µ —П–Ј—Л–Ї–Є, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ –†–µ–є—Д–Њ–≤–Њ–Љ –Ы–µ–Ї—Б–Є–Ї–Њ–љ–µ. –Ю—В —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є, —Б–і–µ–ї–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –≤ –Ъ–Њ—А–љ–µ—Б–ї–Њ–≤–µ, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ:
–Я–Њ—Б–ї–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ, –љ–µ –Ї–∞—Б–∞—П—Б—М —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П—В –≤ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–Є, –њ—А–Є–±–∞–≤–Ї–µ –Є —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–є —В–Њ–≥–Њ –Є–ї–Є –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞, —П –Љ–Њ–≥—Г —Б–Љ–µ–ї–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –Є–Ј 1378 –Ї–Њ—А–љ–µ–є, –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –≤ –Ъ–Њ—А–љ–µ—Б–ї–Њ–≤–µ, –љ–Є –Њ–і–љ–Њ —Б–ї–Њ–≤–Њ –љ–µ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –≤ —В–Њ–Љ –≤–Є–і–µ, –Ї–∞–Ї–Њ–є –Њ–љ–∞ –Є–Љ–µ–µ—В –≤ –†–µ–є—Д–Њ–≤–Њ–Љ –Ы–µ–Ї—Б–Є–Ї–Њ–љ–µ. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –≤—Б–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –Є –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П —Б–і–µ–ї–∞–љ—Л –Љ–љ–Њ—О –љ–µ –Є–Ј –ґ–µ–ї–∞–љ–Є—П –Њ—В–ї–Є—З–Є—В—М—Б—П –љ–Њ–≤–Є–Ј–љ–Њ—О, –љ–Њ —Б–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ —Б —В–µ–Љ–Є –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞–Љ–Є, –Ї–∞–Ї–Є–µ –њ—А–Є–љ—П—В—Л –≤ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –њ—А–Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Ъ–Њ—А–љ–µ—Б–ї–Њ–≤–∞. –У–ї–∞–≤–љ–µ–є—И–Є–µ –Є–Ј —Н—В–Є—Е –њ—А–∞–≤–Є–ї –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞—О—В—Б—П –≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є—Е –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–љ–Є—П—Е.
I. –Я—А–Є —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–Є —П–Ј—Л–Ї–∞ –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ –µ–≥–Њ –Њ–±—К–µ–Љ–µ, —Б–ї–Њ–≤–∞ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б—А–∞–≤–љ–Є—В—М —Б –ґ–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е
–°–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ —Б —Н—В–Є–Љ –≤—Б–µ —Б–ї–Њ–≤–∞, —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї—П–µ–Љ—Л–µ –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ, —Б–ї—Г–ґ–∞—В –≤—Б–µ–≥–і–∞—И–љ–Є–Љ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ –љ–∞—И–µ–≥–Њ —А–Њ–і—Б—В–≤–∞ —Б —А–∞–Ј—А–Њ–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –љ–∞—А–Њ–і–∞–Љ–Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–Є; –≤—В–Њ—А—Л–µ, –њ–Њ –і–∞–≤–љ–Њ—Б—В–Є —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є—П, –і–Њ —В–Њ–≥–Њ —Б—А–Њ–і–љ–Є–ї–Є—Б—М —Б –љ–∞—И–Є–Љ —П–Ј—Л–Ї–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Є —З—Г–ґ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –њ–Њ—З—В–Є –Є–Ј–≥–ї–∞–і–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ –љ–Є—Е –Є –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞—О—В—Б—П –љ–µ –Є–љ–∞—З–µ, –Ї–∞–Ї –њ—А–Є –њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П; –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г –Њ—В–і–µ–ї—Г –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П —Б–ї–Њ–≤–∞, –Њ—Б—В–∞–≤—И–Є–µ—Б—П —Г –љ–∞—Б –Њ—В –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –±—Л–ї–Є –≤ –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–µ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є —Б –љ–∞—И–Є–Љ–Є –њ—А–µ–і–Ї–∞–Љ–Є –Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і–∞–≤–љ–Њ –≤–Њ—И–ї–Є –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –†—Г—Б–Є, –Ї–∞–Ї, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Є–Ј —Д–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–ї–µ–Љ–µ–љ –Є –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –Ї –љ–∞–Љ —Б–Ї–∞–љ–і–Є–љ–∞–≤—Л. –І—В–Њ –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е —Б–ї–Њ–≤, —В.–µ. –њ—А–Є—И–ї—Л—Е, —В–Њ –Њ–љ–Є –Њ–±—П–Ј–∞–љ—Л —Б–≤–Њ–Є–Љ —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –њ—А–Є—Е–Њ—В–Є –ї—О–і–µ–є, –љ–µ –Њ–±—А–∞—Й–∞—О—Й–Є—Е –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –љ–∞ –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —П–Ј—Л–Ї, —З—Г–ґ–µ–Ј–µ–Љ–љ–Њ—Б—В–Є —Б–∞–Љ–Є—Е –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤, –∞ –±–Њ–ї–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –љ–µ–±—А–µ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —Б–Њ—З–Є–љ–Є—В–µ–ї–µ–є –Є –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і—З–Є–Ї–Њ–≤, –Є–Ј–±–µ–≥–∞—О—Й–Є—Е —В—А—Г–і–∞ - –Ј–∞–≥–ї—П–љ—Г—В—М –≤ –±–Њ–≥–∞—В—Г—О —Б–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—Й–љ–Є—Ж—Г —А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—О—В, —З—В–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Є–µ —З—Г–ґ–Є—Е —Б–ї–Њ–≤ –љ–Є –Љ–∞–ї–Њ –љ–µ –њ—А–µ–і–Њ—Б—Г–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є –љ–µ —Г–љ–Є–ґ–∞–µ—В —З–µ—Б—В–Є –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞. –Э–Њ –µ—Б–ї–Є —Н—В–Њ —В–∞–Ї: —В–Њ –Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞ –Њ—В —А–∞–Ј–љ–Њ—А–Њ–і–љ–Њ–є –њ—А–Є–Љ–µ—Б–Є —Б–ї–Њ–≤, —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї—П–µ–Љ—Л—Е –љ–∞—А–Њ–і–∞–Љ–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–Є, –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –љ–∞—А–Њ–і –≤—Л—И–µ –≤—Б–µ—Е –њ–Њ—Е–≤–∞–ї. –Ч–∞–Љ–µ—В–Є–Љ, —З—В–Њ –љ–∞—А–Њ–і, –љ–∞—З–Є–љ–∞—П —Б–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞—В—М –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, —Б—В–∞—А–∞–µ—В—Б—П –Њ—З–Є—Б—В–Є—В—М —П–Ј—Л–Ї –Њ—В —З—Г–ґ–µ–Ј–µ–Љ–љ–Њ–є –њ—А–Є–Љ–µ—Б–Є, –Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В –≤ –љ–µ–Љ —Б–ї–Њ–≤–∞ –і–ї—П –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –љ–Њ–≤—Л—Е –њ–Њ–љ—П—В–Є–є. –Ь—Л, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –±–ї–Є–Ј–Ї–Є –Ї —В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞—И —П–Ј—Л–Ї –Њ—З–Є—Б—В–Є—В—Б—П –Њ—В –љ–∞–Ї–Њ–њ–Є–≤—И–µ–є—Б—П –≤ –љ–µ–Љ –њ—А–Є–Љ–µ—Б–Є. –Э–Њ —П, –њ—А–µ–і–≤–∞—А—П—П —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П, —А–µ—И–Є–ї—Б—П, —Б–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ —Б –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–є —Ж–µ–ї—М—О –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В—М –Є–Ј –Ъ–Њ—А–љ–µ—Б–ї–Њ–≤–∞ –≤—Б–µ –Є–љ–Њ—П–Ј—Л—З–љ—Л–µ —Б–ї–Њ–≤–∞. –Т–Њ—В –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Њ–±—К—П—Б–љ—П–µ—В—Б—П –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–µ —З–Є—Б–ї–Њ –Ї–Њ—А–љ–µ–є, –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –≤ –Ъ–Њ—А–љ–µ—Б–ї–Њ–≤–µ, –Є –Њ–њ—Г—Й–µ–љ–Є–µ —Б–ї–Њ–≤, –њ–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г —В—Г–Ј–µ–Љ–љ—Л—Е.
II. –Я—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—П –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–µ —Б–ї–Њ–≤–∞, –Ї–∞–Ї —Г—Б–≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ, —В–∞–Ї –Є –њ—А–Є—И–ї—Л–Љ, —П –±—Г–і—Г –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М –њ–µ—А–≤—Л–µ, –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Ї —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ—Г —П–Ј—Л–Ї—Г, —В—Г–Ј–µ–Љ–љ—Л–Љ–Є, –∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –Є–љ–Њ—П–Ј—Л—З–љ—Л–Љ–Є. –£–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є–µ –љ–µ –і–µ–ї–∞–µ—В –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–Є–Љ–Є –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є—П; –љ–Њ –≤—Л—И–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ, —З—В–Њ –Є–Ј –Ъ–Њ—А–љ–µ—Б–ї–Њ–≤–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ—Л —Б–ї–Њ–≤–∞ –Є–љ–Њ—П–Ј—Л—З–љ—Л–µ, —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤ –љ–µ–Љ –Є–Љ–µ—О—В –Љ–µ—Б—В–Њ –Њ–і–љ–Є —В—Г–Ј–µ–Љ–љ—Л–µ. –Я–Њ—Б–µ–Љ—Г –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Є, –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ —П –Њ—В–і–µ–ї—П–ї —Н—В–Є —Б–ї–Њ–≤–∞ –Њ—В –Є–љ–Њ—П–Ј—Л—З–љ—Л—Е.
–°–ї–Њ–≤–Њ, —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї—П–µ–Љ–Њ–µ –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ, –њ–Њ—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П –Є–љ–Њ—П–Ј—Л—З–љ—Л–Љ,
–°–∞–Љ–Њ —Б–Њ–±–Њ—О —А–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П, —З—В–Њ —В–µ —А–µ—З–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—В —Н—В–Є–Љ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П–Љ, –њ–Њ–ї—Г—З–∞—О—В –Ј–≤–∞–љ–Є–µ —В—Г–Ј–µ–Љ–љ—Л—Е.
III. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –љ–µ –Ї –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ—Г —Б–ї–Њ–≤—Г –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–Є–ї–Њ–ґ–Є—В—М –≤—Б–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П; –∞ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ–Ї –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –Є–Ј –љ–Є—Е –њ–Њ–і–∞–µ—В –њ–Њ–≤–Њ–і –Ї –≤ —Б–±–Є–≤—З–Є–≤–Њ—Б—В–Є –≤ —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є –Ї–Њ—А–љ–µ–є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є—Е –Є–љ–Њ—П–Ј—Л—З–љ–Њ—Б—В–Є –Є–ї–Є —В—Г–Ј–µ–Љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Я–Њ—Б–µ–Љ—Г, –і–ї—П –њ—А–µ–і–Њ—В–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –Њ—И–Є–±–Њ–Ї –≤ —Н—В–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, —П –Є–Љ–µ–ї –≤–≤–Є–і—Г —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є—П:
IV. –Т –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Ї–Њ—А–љ–µ–є —П–Ј—Л–Ї–∞ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—О—В—Б—П –і–≤–µ –Ї—А–∞–є–љ–Њ—Б—В–Є: –Є–ї–Є –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В—Б—П —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–µ–љ–љ—Л—Е —Б–ї–Њ–≤, –Є–ї–Є —З—А–µ–Ј–Љ–µ—А–љ–Њ —Г–Љ–µ–љ—М—И–∞–µ—В—Б—П –Є—Е –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ. –Т –њ–µ—А–≤–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –љ–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П –Њ—В–Љ–µ–љ–∞ –≤ –±—Г–Ї–≤–∞—Е –Є –і–∞–ґ–µ –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ –Є—Е –љ–µ —А–µ–і–Ї–Њ —Б–ї—Г–ґ–Є—В –њ–Њ–≤–Њ–і–Њ–Љ –Ї –і–Њ–њ—Г—Й–µ–љ–Є—О –Њ—Б–Њ–±–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–љ—П; —В–∞–Ї, –≤ –†–µ–є—Д–Њ–≤–Њ–Љ –Ы–µ–Ї—Б–Є–Ї–Њ–љ–µ –њ–Њ—З–Є—В–∞—О—В—Б—П —А–∞–Ј–љ—Л–Љ–Є –Ї–Њ—А–љ—П–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞: –≤—П–Ј–∞—В—М –Є —Г–Ј–∞, –і–µ—А–≥–∞—В—М –Є —В–Њ—А–≥–∞—В—М [—В—А–Њ–≥–∞—В—М?], –Ї–∞—В–∞—В—М –Є —В–∞—З–Ї–∞, —В–Њ–њ–Њ—А –Є —В—П–њ–∞—В—М, –Є –њ—А. –Т –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —Г—Б–Є–ї–Є–µ –њ–Њ–і–≤–µ—Б—В–Є –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ —Б–ї–Њ–≤ –њ–Њ–і –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–µ—Б—П—В–Ї–Њ–≤ –Њ–і–љ–Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–љ–µ–є. –Ъ–Њ—А–љ—П–Љ–Є –і–ї—П –≤—Б–µ—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤ –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –§—Г–ї—М–і–∞ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–µ—Б—П—В—М –±—Г–Ї–≤! –І—В–Њ –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П –Љ–µ–љ—П, —В–Њ –њ—А–Є —А–∞–Ј–±–Њ—А–µ –Ї–Њ—А–љ–µ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞ —П –і–µ—А–ґ–∞–ї—Б—П —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Л –Љ–µ–ґ–і—Г –і–≤—Г–Љ—П –Ї—А–∞–є–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є, —В.–µ., –љ–µ —А–∞–Ј—А—Г—И–∞–ї —В–µ—Е —Б–ї–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Љ–µ—О—В —П–≤–љ—Л–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Є —А–Њ–і—Б—В–≤–∞, –љ–Њ –љ–µ —Б–±–ї–Є–ґ–∞–ї –Є —В–µ—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ, –њ–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ–є —Б–≤–Њ–µ–є —А–∞–Ј–љ–Њ—А–Њ–і–љ–Њ—Б—В–Є, —В–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —А–∞–Ј–±–µ–≥–∞—О—В—Б—П –Њ–і–љ–Њ –Њ—В –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ, –≤–Њ–њ—А–µ–Ї–Є —Г—Б–Є–ї–Є—О —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–µ–і–∞.
V. –Ю—Б–љ–Њ–≤—Г –Ї–Њ—А–љ–µ–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В –љ–µ –Њ–і–љ–Є —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ—Л–µ –±—Г–Ї–≤—Л, –љ–Њ –Є –≥–ї–∞—Б–љ—Л–µ; —Н—В–Њ –≤–Є–і–љ–Њ –Є–Ј —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞, –Є–Љ–µ—О—Й–Є–µ –Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤—Л–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ—Л–µ –±—Г–Ї–≤—Л, –≤—Л—А–∞–ґ–∞—О—В —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ –њ–Њ–љ—П—В–Є—П –њ–Њ —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є—О –≥–ї–∞—Б–љ—Л—Е, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –і–∞—О, –і–Њ—О, –і—Г—О, –і–µ—О.
VI. –†–∞–Ј–ї–Є—З–Є–µ –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є –Ј–∞–≤–Є—Б–Є—В –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—В –±—Г–Ї–≤, –≤—Е–Њ–і—П—Й–Є—Е –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –Ї–Њ—А–љ—П, –љ–Њ –і–∞–ґ–µ –Њ—В –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –Є–Љ–µ—О—В –±–Њ–ї—М—И—Г—О –≤–∞–ґ–љ–Њ—Б—В—М –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Ї —А–∞–Ј–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–є, [...] –І—В–Њ –і–µ–ї–∞—В—М –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ? –Я–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М –ї–Є –Ї–∞–ґ–і–Њ–µ –Є–Ј —Н—В–Є—Е —Б–ї–Њ–≤ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ –≤ –≤–Є–і–µ –Њ—Б–Њ–±—Л—Е –Ї–Њ—А–љ–µ–є, –Є–ї–Є —Б–Њ–µ–і–Є–љ—П—В—М –Є—Е, –њ–Њ–і–≤–Њ–і—П –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–љ–Њ–Ј–≤—Г—З–љ—Л—Е —Б–ї–Њ–≤ –њ–Њ–і –Њ–і–Є–љ –Ї–Њ—А–µ–љ—М? –І—В–Њ–±—Л –≤ —В–Њ–Љ –Є–ї–Є –і—А—Г–≥–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –љ–µ –љ–∞—А—Г—И–Є—В—М –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—Л—И–µ (IV) –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞, —П –њ—А–Є–љ—П–ї —Г–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї–µ–Љ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Л –Љ–µ–ґ–і—Г –і–≤—Г–Љ—П –Ї—А–∞–є–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–љ–Є–µ, —З—В–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–љ—Л—Е —Б–ї–Њ–≤ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –Є–Љ–µ—В—М –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї –Ї–Њ—А–љ—О. –Э–∞ —Н—В–Њ–Љ-—В–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Б–ї–Њ–≤–∞ –±–∞–љ–Ї–∞ –Є –±–∞–љ—П –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ—Л –≤–Є–і–∞–Љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–љ—П. –Х—Б–ї–Є –ґ–µ –љ–µ–ї—М–Ј—П –Њ—В–Ї—А—Л—В—М —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П, —В–Њ –і–≤–∞ —Б–ї–Њ–≤–∞, —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ –њ–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П–Љ, –љ–µ —Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–Њ –Ї–Њ—А–µ–љ–љ—Л—Е –±—Г–Ї–≤, –і–Њ–ї–ґ–љ—Л —Б—З–Є—В–∞—В—М—Б—П –і–≤—Г–Љ—П –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Ї–Њ—А–љ—П–Љ–Є. –≠—В—Г —А–∞–Ј–љ–Њ–Ї–Њ—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е —Б–ї–Њ–≤ —П –Њ–±—К—П—Б–љ—П—О —В–µ–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ–Є –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М —Г —А–∞–Ј–љ—Л—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤, –љ–Њ, –њ–Њ –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–Љ –і–ї—П –љ–∞—Б –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞–Љ, —Б–Њ—И–ї–Є—Б—М –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, —Б –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ—Л—Е –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤ —Б–≤–µ—В–∞. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–ї—М–љ—Л—Е –Њ–±—К—П—Б–љ–µ–љ–Є–є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–±–ї–Є–Ј–Є—В—М –њ–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П–Љ –Є –і–∞–ґ–µ –њ—А–Є—З–Є—Б–ї–Є—В—М –Ї –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –Ї–Њ—А–љ—О –Ї–∞–Ї–Є–µ –±—Л —В–Њ –љ–Є –±—Л–ї–Є —Б–ї–Њ–≤–∞, —Е–Њ—В—М –±—Л, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, ? –Љ–µ—А–µ—В—М, –Љ—Г—А–∞–≤–∞, –Љ–Њ—А–≥–∞—В—М –Є –Љ—Г—А–ї—Л–Ї–∞—В—М. –Э–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Є –ї–Є —В–µ –Њ–±—К—П—Б–љ–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–∞–і–Њ –Ј–∞—В–≤–µ—А–ґ–Є–≤–∞—В—М? –Ъ–∞–Ї–∞—П –њ–Њ–ї—М–Ј–∞ –Њ—В —Б–ї–Њ–≤–∞—А—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ –љ–∞ —В–∞–Ї–Є—Е –Њ–±—К—П—Б–љ–µ–љ–Є—П—Е?
VII. –Ь–µ–ґ–і—Г –і—А–µ–≤–љ–Є–Љ–Є —П–Ј—Л–Ї–∞–Љ–Є –µ—Б—В—М —В–∞–Ї–Є–µ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Ј–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–Њ—А–љ–µ–є –њ—А–Є–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –≥–ї–∞–≥–Њ–ї–∞–Љ, –Є —В–∞–Ї–Є–µ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Є–Љ–µ–љ–∞ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г—О—В—Б—П —Б–Є–Љ –Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ; –Ї –њ–µ—А–≤–Њ–Љ—Г —А–∞–Ј—А—П–і—Г –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –µ–≤—А–µ–є—Б–Ї–Є–є —П–Ј—Л–Ї, –∞ –Ї –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–Љ—Г - –∞—А–Љ—П–љ—Б–Ї–Є–є. –Э–∞—И —П–Ј—Л–Ї, –љ–µ –Є–Љ–µ—П –њ—А–∞–≤–∞ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М—Б—П –і—А–µ–≤–љ–Є–Љ, –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ–Њ—Е–≤–∞–ї–Є—В—М—Б—П –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ—О –Њ–і–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ—Б—В—М—О; –≤ –љ–µ–Љ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–Њ—А–љ–µ–є –њ—А–Є–ї–Є—З–љ–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є –Є –≥–ї–∞–≥–Њ–ї—Г, –∞ –Є–Ј –њ—А–Њ—З–Є—Е —Б–ї–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–∞–ї–Њ –Є–Љ–µ—О—В —Г—З–∞—Б—В–Є—П –≤ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–љ–Њ–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —П–Ј—Л–Ї–∞, –Њ—З–µ–љ—М –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞—О—В —Н—В–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ. –Я—А–Є —Б–µ–Љ —Б—З–Є—В–∞—О –љ–µ–Є–Ј–ї–Є—И–љ–Є–Љ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Ј–∞—В—А—Г–і–љ–µ–љ–Є–µ –≤ –≤—Л–±–Њ—А–µ —Б–ї–Њ–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М –Ї–Њ—А–љ–µ–Љ: –Є–Љ—П –ї–Є, –Є–ї–Є –≥–ї–∞–≥–Њ–ї; [...] –Э–µ –љ–∞—И–µ–і—И–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –і–ї—П –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ –љ–∞ —Н—В–Њ—В —Б–ї—Г—З–∞–є, —П –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О –Ј–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–Њ—А–љ–µ–є —В–µ–Љ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Г–і–Њ–±–љ–µ–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤—Л–≤–µ—Б—В–Є –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–љ—Л—Е —А–µ—З–µ–љ–Є–є.
VIII. –Я–µ—А–≤–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–Љ –≤–Є–і–Њ–Љ —Б–ї–Њ–≤–∞ –≤ –Є–Љ–µ–љ–Є –њ–Њ—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П –Є–Љ–µ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –њ–∞–і–µ–ґ, –∞ –≤ –≥–ї–∞–≥–Њ–ї–µ, –±–Њ–ї—М—И–µ–є —З–∞—Б—В—М—О, –љ–µ–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –љ–∞–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є–µ. –Х—Б–ї–Є –ґ–µ –≤ —Н—В–Њ–Љ –љ–∞–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є–Є, —Б –Њ—В—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ—В –Њ–±—Й–Є—Е –њ—А–∞–≤–Є–ї —П–Ј—Л–Ї–∞, –і–Њ–њ—Г—Й–µ–љ–∞ –њ–Њ—В–µ—А—П –Є–ї–Є –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ—А–µ–љ–љ—Л—Е –±—Г–Ї–≤, –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –њ–Њ –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г –і—А—Г–≥–Є—Е –љ–∞—А–µ—З–Є–є, –Њ–±—А–∞–Ј—Г–µ—В—Б—П –Њ—Б–Њ–±—Л–є –≤–Є–і –љ–µ–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є—П; —В–∞–Ї, –њ–Њ –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г –љ–∞—А–µ—З–Є–є —Г–Ї—А–∞–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є —Б–µ—А–±—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–Њ—А–µ–љ—М –ї–µ–≥—В–Є –Є–ї–Є –ї–µ–≥–∞—В—М, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –ї–µ—З—М –Є –ї–µ–ґ—Г –љ–µ –Є–Љ–µ—О—В –Ї–Њ—А–љ–µ–≤–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞.
IX. –Т –Њ–±—К—П—Б–љ–µ–љ–Є–Є –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–є –Ї–Њ—А–µ–љ–љ—Л—Е —Б–ї–Њ–≤ —П –њ—А–Є–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—О—Б—М –Њ–±—Й–µ–≥–Њ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ-—Б–ї–∞–≤—П–љ–Њ-—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞—А—П, –Є–Ј–і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –°–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–≤—Л–Љ; –љ–Њ –≤ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е —Б–і–µ–ї–∞–љ—Л –Љ–љ–Њ—О –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –і–ї—П –±–Њ–ї—М—И–µ–є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є–ї–Є –њ–Њ –і—А—Г–≥–Є–Љ –њ—А–Є—З–Є–љ–∞–Љ.
X. –°–ї–Њ–≤–∞, –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є–Љ—Л–µ –Ї–∞–Ї –Є–Ј —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—А–µ—З–Є–є, —В–∞–Ї –Є –Є–Ј –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—В—Б—П –і–≤–Њ—П–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ: –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ –±–ї–Є–Ј–Њ—Б—В–Є –Є—Е —Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–∞ —Б —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є, –∞ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ —Б–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ —Б –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О —Б–∞–Љ–Є—Е –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–є. –Х—Б–ї–Є —Н—В–Є —Б–ї–Њ–≤–∞, –њ–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П–Љ, –≤–њ–Њ–ї–љ–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—В –љ–∞—И–µ–Љ—Г –Ї–Њ—А–љ—О - –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П —Б —В–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Є–Љ–µ–µ—В –±–Њ–ї–µ–µ —Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–∞ —Б –љ–Є–Љ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї –Ј–≤—Г–Ї–∞–Љ. –Х—Б–ї–Є –ґ–µ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є–Љ—Л–µ —Б–ї–Њ–≤–∞ —А–∞–Ј–љ—П—В—Б—П –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П–Љ–Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—В –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Ї–Њ—А–љ—П, –љ–Њ –Є –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ–±–Њ—О, —В–Њ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—В—Б—П —В–∞–Ї, —З—В–Њ–±—Л –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –≤–Є–і–µ—В—М –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і –Њ—В –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–љ—П—В–Є—П –Ї –і—А—Г–≥–Є–Љ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–Є–Љ. –Т –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П—Е –љ–∞–і–Њ–±–љ–Њ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В—М –Њ–і–љ–Њ –Є —В–Њ –ґ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ; –і–ї—П –Є–Ј–±–µ–ґ–∞–љ–Є—П –Є–Ј–ї–Є—И–љ–µ–≥–Њ –њ–Њ–≤—В–Њ—А–µ–љ–Є—П, –њ—А–Є –і—А—Г–≥–Є—Е –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П—Е —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –љ–∞—А–µ—З–Є—П, –Є —Н—В–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Љ–µ–ґ–і—Г –≤–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ [?]. –†–∞–≤–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –љ–µ –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П—О—В—Б—П –Њ–±—К—П—Б–љ–µ–љ–Є—П –Є–ї–Є –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і –њ—А–Є —Б–ї–Њ–≤–∞—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Љ–µ—О—В –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П, –Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤—Л–µ —Б —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ–Є, –∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В—Б—П –њ—А–Є –љ–Є—Е —В–µ —Ж–Є—Д—А—Л, –Ї–∞–Ї–Є–Љ–Є –Њ—В–ї–Є—З–µ–љ—Л –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ —Б–ї–Њ–≤–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П.
XI. –Ш–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В—М —Б –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Њ—Б–Љ–Њ—В—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О. –Ф–ї—П —В–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–∞ —А–∞–Ј–љ–Њ—П–Ј—Л—З–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–љ–µ–є –љ–µ –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–∞ –±—Г–Ї–≤; –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ, —З—В–Њ–±—Л —Б—Е–Њ–і–љ—Л–µ –±—Г–Ї–≤—Л –Є–Љ–µ–ї–Є –Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤–Њ–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї —Б–Њ—Б—В–∞–≤—Г –Ї–Њ—А–љ—П. –Х—Б–ї–Є –Ї–∞–Ї–Є–µ-–љ–Є–±—Г–і—М —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ—Л–µ –±—Г–Ї–≤—Л –≤ –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б–ї–Њ–≤–µ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—В –Ї —Б–Њ—Б—В–∞–≤—Г –Ї–Њ—А–љ—П, –∞ –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ –Є–Љ–µ—О—В –Ј–≤–∞–љ–Є–µ –њ—А–Є—Б—В–∞–≤–Ї–Є –Є–ї–Є –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П (–Є –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В), —В–Њ —Б–ї–Є—З–µ–љ–Є–µ —В–∞–Ї–Є—Е —Б–ї–Њ–≤ –±—Г–і–µ—В —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Є–Ј–ї–Є—И–љ–µ –Є –љ–µ–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ. –Т –Ь–µ–є–і–Є–љ–≥–µ—А–Њ–≤–Њ–Љ —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —Б–ї–Њ–≤–∞—А–µ –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—А–µ—З–Є–є –і–Њ–њ—Г—Й–µ–љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–Ї–Њ—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є —А–∞–Ј—Г–Љ –Є –Є—В–∞–ї. ragione, –љ–µ —Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–µ –Є–Ј –љ–Є—Е —А–∞–Ј–ї–∞–≥–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ –њ—А–Є—Б—В–∞–≤–Ї—Г —А–∞–Ј –Є –Ї–Њ—А–µ–љ—М —Г–Љ, –∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ, –Ї–∞–Ї –њ–µ—А–µ–і–µ–ї–∞–љ–љ–Њ–µ –Є–Ј –ї–∞—В. ratio, –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –Њ—В –ї–∞—В–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ґ–µ —Б–ї–Њ–≤–∞ reor, –Є –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Ї–Њ—А–љ–µ–≤–Њ–є –Њ—Б–љ–Њ–≤–Њ–є –Є–Љ–µ–µ—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–ї–Њ–≥ ra –Є–ї–Є re. –Я–Њ–і–Њ–±–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –љ–∞–і–Њ–±–љ–Њ –Є–Ј–±–µ–≥–∞—В—М –љ–∞—В—П–ґ–µ–Ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї—П—О—В—Б—П –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л –љ–∞ –і—Л–±–∞—Е —Б–ї–Њ–≤–Њ–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞, –њ–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є—О –®–ї–µ—Ж–µ—А–∞, –≤—Л–Љ—Г—З–Є—В—М –Є–Ј –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М —Б–ї–Њ–≤–∞ –ґ–µ–ї–∞–µ–Љ—Л–µ –Ј–≤—Г–Ї–Є. [...]
XII. –Я–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л—Е —Б–ї–Њ–≤, —Б–Љ–Њ—В—А—П –њ–Њ-–љ–∞–і–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є, –њ—А–Є–±–∞–≤–ї—П—О—В—Б—П –њ—А–Є–Љ–µ—З–∞–љ–Є—П. –Т —Н—В–Є—Е –њ—А–Є–Љ–µ—З–∞–љ–Є—П—Е –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В—Б—П –њ—А–Є–Љ–µ—А—Л –Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤–Њ–є —Б–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ–љ—П—В–Є–є (analogia), –Ї–∞–Ї–∞—П –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–µ—В—Б—П –≤ —А–∞–Ј–љ—Л—Е —П–Ј—Л–Ї–∞—Е –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї –њ—А–Є–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—О –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б–љ—Л—Е –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–є; [...] –Ш–љ–Њ–≥–і–∞ –Њ–±—К—П—Б–љ—П–µ—В—Б—П –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–≤—И–µ–µ –њ–Њ–≤–Њ–і–Њ–Љ –Ї –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—О –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞ –њ—А–Є —В–∞–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ—А–љ–µ, –њ—А–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –љ–µ—В –µ–≥–Њ –≤ –†–µ–є—Д–Њ–≤–Њ–Љ –Ы–µ–Ї—Б–Є–Ї–Њ–љ–µ; [...] –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ —В–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Љ–µ—О—В –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ—Б—В—М, –љ–Њ –љ–µ –њ—А–Є–љ—П—В—Л –Љ–љ–Њ—О –њ–Њ —А–∞–Ј–љ—Л–Љ –њ—А–Є—З–Є–љ–∞–Љ; [...]
–Ц–µ–ї–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Љ–љ–µ, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ —Н—В–Є–Љ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞–Љ —Б—Г–і–Є–ї–Є –Њ –Љ–Њ–µ–Љ –Ъ–Њ—А–љ–µ—Б–ї–Њ–≤–µ; –љ–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Є –ї–Є —Б–∞–Љ—Л–µ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞, - —Н—В–Њ –і—А—Г–≥–Њ–µ –і–µ–ї–Њ: –Ї–∞–ґ–і—Л–є —Б—Г–і–Є—В –њ–Њ-—Б–≤–Њ–µ–Љ—Г, –∞ –Ї—В–Њ –љ–∞ –≤—Б–µ—Е —Г–≥–Њ–і–Є–ї - —В–Њ—В –µ—Й–µ –љ–µ —А–Њ–і–Є–ї—Б—П.
[–Ф–∞–ї–µ–µ –∞–≤—В–Њ—А –≤—Б–Ї–Њ–ї—М–Ј—М —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –Њ —В—А—Г–і–љ–Њ—Б—В—П—Е —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —В—А—Г–і–∞ –Є –≤—Л—А–∞–ґ–∞–µ—В –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –≤—Б–µ–Љ, –Ї—В–Њ –µ–Љ—Г –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї.]
–Ґ—А—Г–і –§—С–і–Њ—А–∞ –°–њ–Є—А–Є–і–Њ–љ–Њ–≤–Є—З–∞ –®–Є–Љ–Ї–µ–≤–Є—З–∞ - –ґ–Є–≤–Њ–є, —В.–Ї. –њ–Њ–і–≤–Є–≥–∞–µ—В –љ–∞ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е —Н—В–Є–Љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —В—А—Г–і–Њ–≤ –Ї–∞–Ї –њ–Њ –і—А—Г–≥–Є–Љ —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–Љ (–Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ) —П–Ј—Л–Ї–∞–Љ, —В–∞–Ї –Є –њ–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ—Г —П–Ј—Л–Ї—Г –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П –Є –µ–≥–Њ —З–∞—Б—В–љ—Л—Е –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є - —А—Г—Б–Є—Б—В–Є–Ї–Є, —Б–ї–∞–≤–Є—Б—В–Є–Ї–Є, –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–Є—Б—В–Є–Ї–Є, –љ–Њ—Б—В—А–∞—В–Є–Ї–Є, –≥–ї–Њ–±–∞–ї—М–љ–Њ–є —Н—В–Є–Љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–Њ–≤—Л—Е –і–∞–љ–љ—Л—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –і–Є–∞–ї–µ–Ї—В–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є.
–Ш–і–µ—П "–Ї–Њ—А–љ–µ—Б–ї–Њ–≤–∞" –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–∞, –Ї–∞–Ї –Є —Б–∞–Љ–Њ —Н—В–Њ —Б–ї–Њ–≤–Њ. –Р–≤—В–Њ—А —Е–Њ—В–µ–ї –њ—А–Є–≤–µ—Б—В–Є –Ї–Њ—А–љ–Є –љ–µ –≤ –≤–Є–і–µ —Г—Б–µ—З–µ–љ–љ—Л—Е –Љ–Њ—А—Д–µ–Љ, –∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ –≤–Є–і–µ —Б–ї–Њ–≤–∞.
–°—Б—Л–ї–Ї–Є –≤ —Б–µ—В–Є –љ–∞ —Б–ї–Њ–≤–∞—А—М –§–µ–і–Њ—А–∞ –®–Є–Љ–Ї–µ–≤–Є—З–∞: